Я давно интересуюсь темой отношения к переводу в еврейской и других традиционных книжных культурах. Речь о переводе со священного языка на повседневный, связывающем мир идеальных святых книг и мир повседневной жизни.
Когда-то я написал заметку в интернете на тему о том, что говорится в Талмуде о переводе на греческий язык. Вот та заметка («Да пребудет краса Иафета в шатре Симовом»: статус греческого языка в иудаизме») https://berkovich-zametki.com/Nomer32/MN48.htm
Леви Китросский недавно обратил внимание (вот его блог http://machanaim-2.org/wp-blog/poteryano-i-najdeno-v-perevode-megila-9) на одну место в трактате Мегилла 9а, в общем-то, хорошо известное, но, по-моему, позволяющее еще раз взглянуть на то, как наличие в языке падежей (и в более широком смысле — аналитический или синтетический характер языка) влияет на восприятие субъект-объектных отношений.
Это место, где обсуждается легенда о переводе Торы на греческий язык, Септуагинте. Мудрецы утверждают, будто переводчики изменили порядок слов в переводе, чтобы избежать возможного понимания смысла Торы, противоречащего единобожию
«И написали ему [царю Птолемею, по заказу которого был сделан перевод]: БОГ СОТВОРИЛ В НАЧАЛЕ«.
То есть изменили порядок слов, ведь Тора начинается словами «В начале сотворил Бог». Заметим, что это не соответствует действительности, в Септуагинте написано «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς» («B начале сотворил Бог»). Но сейчас важны не факты, а как мудрецы Талмуда воспринимали эту тему.
Раши пишет: «‘Бог сотворил в начале небеса’ — чтобы не сказали, что ‘Вначале’ — имя [собственное], и что есть два начала, и одно сотворило другое »
Тосафот и другие комментаторы дальше развивают эту мысль, о чем желающие могут прочитать в оригинале (привожу ниже сответствующую страницу) или найти в сети перевод.
Как совершенно справедливо заметил Л. К., мудрецы не знали, что в греческом языке есть падежи. Слово в форме именительного падежа уже по своей природе является объектом, а в винительном падеже — субъектом. Так в синтетических языках с флексиями, но не так в аналитических языках, где все определяется порядком слов. Поэтому слово и предмет мыслятся исключенными из субъект-объектных отношений. А падежи кажутся непонятной метафизической нагрузкой к ясным понятиям. С точки зрения носителя аналитического языка совершенно непонятно, зачем говорить по-разному «вода» (именительный падеж, т.е. субъект) и «воду» (винительный падеж, то есть объект), ведь речь об одном и том же ясном предмете, о воде. Таким образом, отношения между предметами воспринимаются как нечто отсутствуюшее, по крайней мере, на уровне словоформы.
Это может иметь далеко идущие последствия. Английский — наиболее аналитический из европейских языков. И именно из английскиго протестантизма развилось понятие о теологии природы, а затем и о натурфилософии. Для английского права характерно прецедентное право, когда нет внешнего законодателя, а законы определяюстя самими судебными решениями то есть правоприменителями. Это аналогично представлению, будто законы природы устанавливаются самой материей и «в мире нет ничего, кроме движущейся материи,» как сказал классик. На англоязычной почве выросли такие идеи как аналитическая философия, прагматизм, бихевиоризм, новый атеизм, да и вообще материализм с постановкой денег во главу угла.
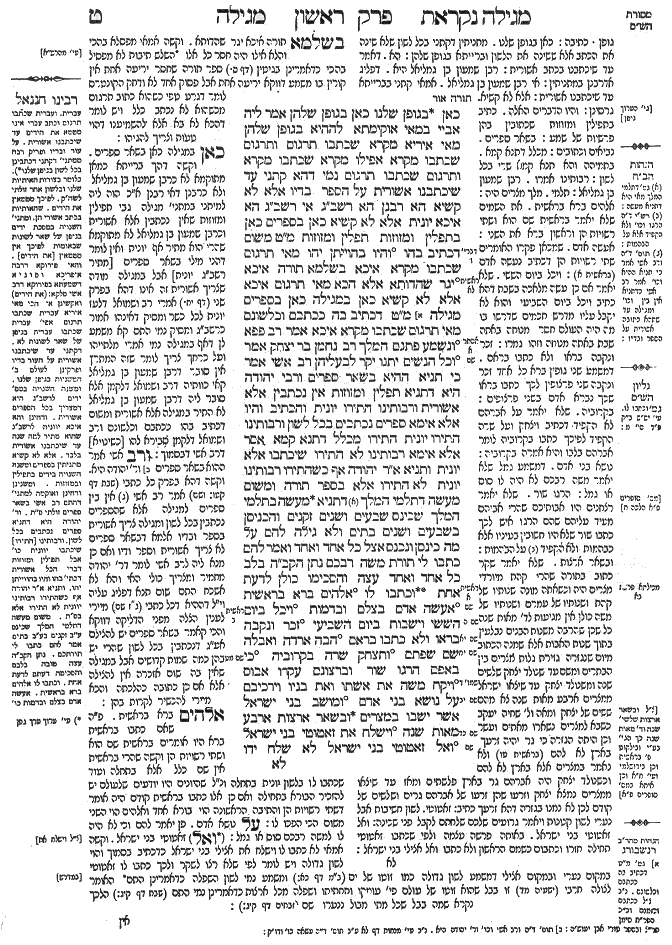
Просматривая ваш Блог в тщетных попытках найти статью «Мысли и наблюдения о текущей ситуации», которая исчезла «как сон, как утренний туман», я заинтересовалась вот этой вашей статьей – «о влиянии падежей на менталитет». Но я так и не поняла: как отсутствие падежей влияет на менталитет? И хорошо или плохо это для иврита? Все очень неопределенно.
Мне кажется, Гумбольдт об этом более определенно высказывался.
По Гумбольдту, в тех языках, где падежи образуются при помощи предлогов, которые добавляются к слову, там грамматическая форма отсутствует, а существуют лишь два слова, грамматические отношения между которыми, можно только условно предположить.
Имея в виду более консервативный характер грамматической части языка по сравнению с ее лексической частью, он полагал, что тот язык, который не имеет различий в роде, падеже, страдательном или среднем залоге – этих пробелов уже не восполнит.
А согласно Ф. Шапиро, древнееврейский язык помимо особенностей, которые свойственны всем семитическим языкам (второстепенная роль гласных звуков; четкое выделение корней в виде «скелета»; максимально развитая флексичность, изменение состава и порядка гласных внутри слова при словообразовании и др.), отличает, в частности, именно отсутствие падежей в именах и замена падежных окончаний синтаксическими словосочетаниями, частицами и предлогами.
Как бы вы это прокомментировали?
Просматривая ваш Блог в тщетных попытках найти статью «Мысли и наблюдения о текущей ситуации», которая исчезла «как сон, как утренний туман»,
Я убрал под замок, поскольку думал, что все кто хотел уже прочитали и высказались. Я вообще не люблю политические темы, а по теме СВО по многим соображениям и тем более.
По Гумбольдту, в тех языках, где падежи образуются при помощи предлогов, которые добавляются к слову, там грамматическая форма отсутствует, а существуют лишь два слова, грамматические отношения между которыми, можно только условно предположить.
Не могу похвастаться, что Вас понял. Я не слышал о языках, в которых «падежи образуются при помощи предлогов». Да это и разнородные понятия, как яблоки и апельсины. Может быть Гумбольдт хотел сказать — «языки, в которых падежные формы [а не падежи!] образуются при помощи присоединения предлогов [а не самих предлогов]»? Но я все равно таких языков не знаю. В семитских языках падежные формы образуются при помощи присоединения окончаний.
И как понять «в языке существуют лишь два слова»? Разве бывают языки, в которых только два слова? И как понять «в языке грамматическая форма отсутствует»? Ну да это риторические вопросы.
А согласно Ф. Шапиро, древнееврейский язык помимо особенностей, которые свойственны всем семитическим языкам (второстепенная роль гласных звуков; четкое выделение корней в виде «скелета»; максимально развитая флексичность, изменение состава и порядка гласных внутри слова при словообразовании и др.), отличает, в частности, именно отсутствие падежей в именах и замена падежных окончаний синтаксическими словосочетаниями, частицами и предлогами.
Как бы вы это прокомментировали?
А как это можно прокомментировать? Файтель Лейбович (или Феликс Львович?) Шапиро — прав! В иврите нет падежей.
А общее представление о соотношении аналитических, синтетических, флективных, агглютинативных и изолирующих языков можно найти в Википедии. Мне кажется, Вы об этом спрашиваете.
Но я так и не поняла: как отсутствие падежей влияет на менталитет? И хорошо или плохо это для иврита? Все очень неопределенно.
Не поняли прочитанное? Ну вот я же написал «отношения между предметами воспринимаются как нечто отсутствуюшее.» И последний абзац, со слов «Это может иметь далеко идущие последствия…»
Исключение для греческого сделано поскольку уже существовал вдохновленный святым духом перевод Септуагинты, однако формальным основанием служит толкование стиха из книги Бытия (9:27): «Прострет Б-г Йафета, и да пребудет он в шатрах Шема». Талмуд понимает этот стих как «И украсит Б-г Йафета, и тот пребудет в шатрах Шема». Греческий – наиболее красивый из языков потомков Йафета, потому именно ему суждено пребывать в шатре Шема, т.е. у евреев.
____________________________
Михаил, а разве так можно? Весь смысл теряется. В Торе же говорится о потомстве Иафета, именно о «распространении» его потомства, которому предрекалось самое широкое расселение на земле.
По Штейнбергу, имя Иафет означает «распространение» или «широкое распространение» и происходит от глагола расширять, дать простор פתה. На что намекает, как он считает, выражение:
«ефет Элогим ле-ефет вэ-йшкон бэ-оhалей шэм».
Но это же типичная тавтология. Удвоение, повторы, тавтология свойственны этапу раннего языкотворчества: «зарезал зарезаемое», «смертью умрешь», «сказал говоря», «жертву жертвовать», «притязание притязаешь» и пр.